
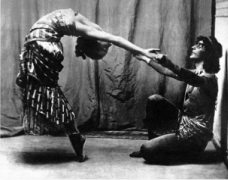


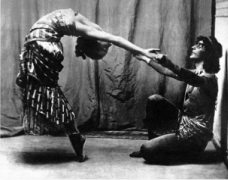

Реформатором балетного театра начала ХХ века по праву
считается Михаил Фокин. Выпустившись в 1898 году из Императорского училища,
Фокин быстро занял положение одного из ведущих солистов петербургской труппы.
Молодой танцовщик по своим внешним и профессиональным данным идеально
соответствовал образу премьера (принца, аристократа, античного героя, волшебного
духа) в балетах Петипа. Статная внешность, пропорциональная фигура, утонченные
черты сочетались с великолепной техникой, чувством формы, легкими от природы
прыжком и вращением. Фокин был разностороннее одаренным человеком, недостатки
образования восполнял самостоятельно, много читал, изучал живопись, скульптуру,
древние памятники в музейных собраниях Петербурга и во время заграничных
поездок, занимался музыкой, внимательно следил за всем новым, что проникало на
петербургскую сцену в драме и опере. Постепенно Фокин пришел к убеждению, что
его собственное искусство – балет – нуждается в решительных переменах.
Действительно, в условных спектаклях Петипа было мало жизнеподобия, а техника
классического танца в посредственном исполнении походила на бессмысленную
гимнастику. Всё это стало предметом критики. «Старому» балету Фокин
противопоставил «новую» эстетику, которая сформировалась не сразу и самые ценные
плоды принесла в условиях сотворчества с лучшими умами и «ногами» эпохи.
Несколько первых постановок Фокина были лишь пробами пера,
подступами к реформам. Суть «новой» эстетики впервые выразилась в трех
одноактных балетах 1908-09 годов: «Павильоне Армиды» на музыку Николая
Черепнина, «Египетских ночах» на музыку Антона Аренского и «Шопениане» на
оркестрованные фортепианные пьесы Шопена. Соавтором первого был Александр Бенуа,
он создал либретто и оформление спектакля, что предопределило поэтику утонченной
стилизации (французский XVIII век причудливо соединялся здесь с нотками
зловещего «гофманианского» романтизма: чаровница Армида с ожившего гобелена была
орудием недобрых сил). Хореография Фокина, хотя и основывалась на вполне
традиционном классическом танце, была стилистически выверена и полностью
соответствовала визуальному образу, заданному художником.
«Шопениана» поставлена также в традициях классического танца,
но здесь Фокин самостоятельно проводил идеи балетного пассеизма: в облике
танцовщиц, в легкости и воздушности танца хореограф воспроизводил романтический
балет XIX века (не знавший «стального носка» и вихревых вращений), балерину
тальониевского типа; на сцене словно оживала старинная гравюра, подернутая,
впрочем, импрессионистическим флером. К тому же, балет был бессюжетным, строился
по принципу сюиты, что вносило новую струю в понимание симфонизации танца
(почему, вероятно, «Шопениана» и стала самым «живучим» созданием реформатора).
Наиболее радикальным был балет «Египетские ночи». Фокин
старался соединить пантомиму и танец, все жесты и движения должны были выглядеть
действенными и весомыми. Но главное – Фокин отказался от выворотности, пальцевой
техники, использовал пластику, заимствованную с древнеегипетских рельефов.
Новшество эпатировало, резко разделило публику на приверженцев и яростных
критиков, но и обозначило возможности иных, нежели прежде, художественных
приемов в пластике и танце.