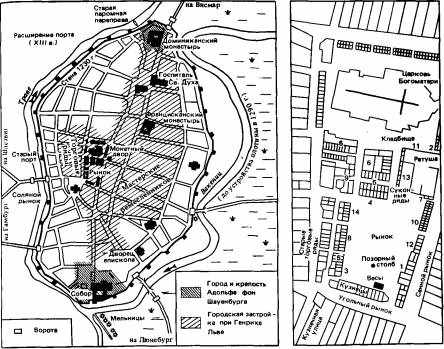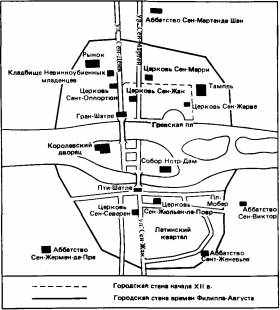
Испанская Реконкиста сопровождалась систематическим заселением и освоением
опустошенных земель на каждом этапе завоевания. Испанцам-христианам с Севера,
иностранцам, прежде всего французам, предлагались особо благоприятные условия
поселения.
С середины XI в. испанская Реконкиста взяла на себя доселе неизвестную миссию
религиозной войны и проложила путь, в военном и духовном отношении, крестовым
походам. Позднее французская колонизация Южной Франции и королевства Обеих
Сицилий, как и немецкая колонизация Пруссии, официально также представлялась как
крестовые походы.
Но это расширительное употребление понятия «крестовых походов», которое,
принижая их, позволяло соединить с виду различные и изолированные военные
предприятия в контексте общей экспансии Запада с середины XI до конца XIII в.,
не должно скрывать того, что крестовыми походами были все же преимущественно
походы в Святую землю. И если их окончательные результаты были незначительными,
а для Запада скорее пагубными, нежели благоприятными, то тем не менее они по
своему психологическому накалу стали вершиной экспансионизма средневекового
христианского мира.
Вот почему необходимо, не забывая о существенной роли в развязывании
крестоносных войн не столько собственно экономических, сколько материальных и
демографических причин, особое внимание уделить духовному и эмоциональному
аспекту крестовых походов, которые были блестяще проанализированы Полем
Альфандери и Альфонсом Дюпроном.
Несомненно, что крестовые походы, даже если их участники ясно не сознавали и не
определяли для себя побудительных мотивов, воспринимались рыцарями и крестьянами
XI в. как очищающее средство от перенаселенности Запада и жажда заморских земель,
богатств и фьефов их увлекала более всего. Но эти походы еще даже до того, как
обернулись полным провалом, не утолили жажды земли у западных людей, и последние
вынуждены были вскоре искать в самой Европе, прежде всего в развитии сельского
хозяйства, решения проблемы, которого не дал заморский мираж. Святые земли,
ставшие ареной войны, отнюдь не были источником хороших иль плохих заимствований,
о которых заблуждавшиеся историки некогда с увлечением писали. Крестовые походы
не способствовали подъему торговли, который начался благодаря прежним связям с
мусульманским миром и внутреннему экономическому развитию Запада; они не
принесли ни технических новшеств, ни новых производств, которые проникли в
Европу иными путями; они непричастны к духовным ценностям, которые
заимствовались через центры переводческой деятельности и библиотеки Греции,
Италии (прежде всего Сицилий) и Испании, где культурные контакты были более
тесными и плодотворными, чем в Палестине; они даже непричастны к распространению
роскоши и сладострастия, которые в глазах суровых западных моралистов были
свойственны Востоку и которыми неверные якобы наградили
простодушных крестоносцев, неспособных противостоять чарам и чаровницам Востока.
Конечно, полученные не столько от торговли, сколько от фрахта судов и займов
крестоносцам доходы позволили некоторым итальянским городам — Генуе, но более
всего Венеции—быстро разбогатеть; но что походы пробудили торговлю и обеспечили
ее подъем в средневековом христианском мире, в это ни один серьезный историк
более не верит. Напротив, они способствовали оскудению Запада, особенно
рыцарства; далекие от того, чтобы обеспечить моральное единство христианского
мира, они распаляли зарождающиеся национальные противоречия (достаточно среди
прочих свидетельств почитать рассказ о Втором крестовом походе, который составил
монах из СенДени и капеллан Людовика VII Эд де Дей и в котором ненависть между
немцами и французами накаляется с каждым эпизодом, или вспомнить об отношениях в
Святых землях между Ричардом Львиное Сердце и Филиппом-Августом, а также
герцогом Австрийским, который позднее посадил Ричарда в тюрьму); походы сделали
непроходимым ров, разделявший Запад и Византию, и вражда между латинянами и
греками, обострявшаяся от похода к походу, вылилась в Четвертый поход и взятие
Константинополя крестоносцами в 1204 г.; вместо того чтобы смягчить нравы,
священная война в своем неистовстве привела крестоносцев к худшим эксцессам,
начиная еврейскими погромами, которыми отмечены пути их следования, и кончая
массовыми избиениями и грабежами, например в Иерусалиме в 1099 г. или в
Константинополе в 1204 г., о чем можно прочитать в сочинениях как европейских
хронистов, так и мусульманских и византийских; финансирование крестовых походов
стало причиной или предлогом увеличения бремени папских поборов и появления
опрометчивой практики продажи индульгенций, а духовно-рыцарские ордена,
оказавшиеся в конечном итоге неспособными защитить и сохранить Святые земли,
осели на Западе, чтобы предаться там всем видам финансовых и военных
злоупотреблений. Таков тяжкий итог этих экспедиций. И я не вижу ничего иного,
кроме абрикоса, который христиане, возможно, узнали благодаря крестовым походам.
Можно еще добавить, что недолговечные учреждения крестоносцев в Палестине были
первым опытом европейского колониализма, и в качестве прецедента он для историка
многозначителен. Несомненно, что Фульхерий Шартрский в своей хронике несколько
преувеличил масштабы колонизационного движения на Восток. Тем не менее его
описание психологии и поведения христианского поселенца весьма примечательно.
«Посмотрите же и поймите, каким образом Господь в наши времена превратил Запад в
Восток. Бывшие прежде западными людьми, мы стали восточными; бывший римлянин или
франк стал здесь жителем Галилеи или Палестины; жившие в Реймсе или Шартре,
оказались горожанами Тира или Антиохии. Мы уже забыли родные места, и одни не
знают, где родились, а другие не желают об этом и говорить. Некоторые уже
владеют в этой стране домами и слугами по праву наследования; некоторые женились
на иностранках, сирийках или армянках и даже на принявших благодать крещения
сарацинках. Один живет с зятем, или невесткой, или тестем, другой окружен
племянниками и даже внучатыми племянниками. Этот обрабатывает виноградники, тот—поля.
Они говорят на разных языках, но уже научились понимать друг друга. Разные
наречия становятся общими для той и другой нации, и взаимное доверие сближает
самые несхожие народы. Чужеземцы стали местными жителями, и странники обрели
пристанище. Каждый день наши родственники и близкие приезжают к нам сюда, бросая
все, чем владели на Западе. Тех, кто был бедным в своей стране, Господь здесь
делает богатыми; владевшие несколькими экю здесь обретают бесчисленное
количество безан гов; имевшим там лишь мызу Господь здесь дарует города. Так
зачем же возвращаться на Запад, если Восток столь благодатен? Господь не
потерпит, чтобы носящие крест и преданные ему оказались здесь в нужде. И это,
как вы видите, есть великое чудо, коим должен восхищаться весь мир. Разве слышал
кто о чем-либо подобном? Господь желает нас всех наделить богатством и привлечь
к себе как самых дорогих его сердцу друзей, ибо ему угодно, чтобы мы жили
согласно его воле, и мы должны от всего сердца смиренно ему повиноваться, дабы
счастливо пребывать в мире с ним"
1.ПАРИЖ
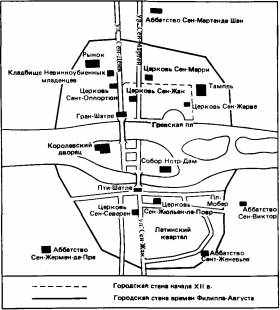
Когда Урбан II в Клермоне в 1095 г. разжигал огонь крестовых походов и когда св.
Бернард его раздувал в ? 46 г. в Везеле. они надеялись превратить беспрестанные
войны в Европе в одну справедливую войну, в борьбу с неверными. Они хотели
очистить христианский мир от скандальных сражений между единоверцами, дать
страстной воинственности феодального общества похвальный выход, указав великую
цель, достижение которой выковало бы столь недостающее ему единение душ и
действий. Разумеется, церковь и папство расчитывали благодаря крестовым походам,
духовными руководителями которых они были, получить одновременно средство
господства на самом Западе, в той Respublica Chnstiana, которая была
торжествующей, но в то же время бурлящей, полной внутренней борьбы и неспособной
собрать свои жизненные силы.
Этот великий замысел провалился. Но церковь все же сумела найти ответ на чаяния
людей, и ей удалось кристаллизовать вокруг идеи крестового похода подспудные
желания и глухие тревоги Запада. Долгое время чувства и помыслы западных людей
были обращены к Иерусалиму небесному. Церковь же показала христианам, что его
можно обрести через Иерусалим земной, и утолила жажду странствий, владевшую теми
христианами, которых реальности этого мира не могли привязать к земле, предложив
им паломничество, крестовый поход, обещавший удовлетворить все желания —
приключений, богатства и вечного спасения. Крест был еще на Западе не символом
страдания, а символом торжества. Накалывая его на грудь крестоносцев, церковь
придавала ему его истинное значение и восстанавливала ту функцию, какую он
выполнял при Константине и первых христианах.
Хотя в походах принимали участие люди из разных социальных слоев, они были
воодушевлены схожими страстными чувствами. Параллельно рыцарской армии возникла
армия бедноты. В Первый крестовый поход армия бедноты, как наиболее
воодушевленная, тронулась первой, и, перебив по пути много евреев, она
постепенно распалась и прекратила существование под ударами голода, болезней и
турок, так и не достигнув цели — Святой земли. Но еще долгое время спустя
крестоносный дух поддерживался в низших слоях общества, где проникновенность и
обаяние его мифов были особенно сильными. И поход детей, юных крестьян, в начале
XIII в. стал воплощением этой трогательной приверженности ему.
Поражения, следовавшие одно за другим, быстрое вырождение мистики крестовых
походов в политику, даже в политику скандальную, долго не могли успокоить это
мощное волнение Запада. Зов заморских земель на протяжении XII в. и позднее
будоражил воображение и чувства людей, которым не удавалось найти у себя, на
Западе, смысла их коллективного и индивидуального предназначения.
В 1099 г. Иерусалим был взят, и в Святой земле возникло латинское государство,
быстро оказавшееся под угрозой. Людовик VII и Конрад III в 1148 г. не смогли ему
помочь, и христианский мир в Палестине стал своего рода беспрестанно
сокращающейся шагреневой кожей. В 1187 г. Саладин вернул Иерусалим; Ричард
Львиное Сердце во время Третьего крестового похода (1189—1192) безуспешно
расточал свои подвиги, тогда как Филипп-Август поспешил вернуться в свое
королевство. В результате Четвертого похода, обращенного венецианцами против
Константинополя, была создана другая эфемерная латинская империя, в Византии,
просуществовавшая с 1204 по 1261 г. Тем временем Фридрих II, отлученный папой от
церкви, путем переговоров восстановил власть христиан в Иерусалиме в 1229 г., но
в 1244 г. город был вновь захвачен мусульманами. Лишь немногие идеалисты хранили
в это время былой крестоносный дух. К ним относился и Людовик Святой. Повергая в
ужас большинство членов своей семьи, начиная с матери Бланки Кастильской, и
своих советников, он сумел увлечь армию крестоносцев, большая часть которой
последовала за ним из любви скорее к нему, нежели к Христу, первый раз в 1248 г.
в Египет, где он попал в плен к неверным, а во второй раз в 1270 г. в Тунис, где
он и умер.До конца XV в. и даже позднее разговоры о крестовом походе
возобновлялись часто. Но в поход никто не отправлялся.
В то время когда Иерусалим владел воображением западных людей, другие города,
более реальные и более открытые земному будущему, развивались на самом
Западе.Большинство из этих городов существовало до тысячного года, восходя своим
началом к античным и более ранним временам. Даже в варварских, поздно
христианизированных странах, у скандинавов, германцев или славян, средневековые
города возникли из таких древних поселений, как славянские «гроды» или
северные«вики». Основание городов на пустом месте было в средние века редким.
Даже Любек был старше актов его основателей Адольфа Шауэнбурга (1143) и Генриха
Льва (1158). Однако можно ли говорить, что средневековые города были теми же
самыми, что и их предшественники, даже в этих наиболее частых случаях
преемственности? В римском мире города были прежде всего политическими,
административными и военными центрами и только затем— экономическими. В Раннее
Средневековье, забившись в углы своих старых стен, ставших слишком просторными,
города сохраняли почти исключительно лишь политическую и административную
функцию, да и то атрофированную. Наиболее видные из них обязаны были своей
относительной значимостью присутствию не столько государя, охотно
путешествующего и предпочитающего деревню, или его высокопоставленного
уполномоченного (их было мало, и за пределами королевского дома они не имели
многолюдных свит), сколько епископа. Будучи религией преимущественно городской,
христианство поддерживало на Западе городскую жизнь. И если епископальные города
сохраняли определенную экономическую функцию, то это была та примитивная
функция, которую обеспечивали амбары епископа или городских монастырей, куда
свозились припасы из сельских окрестностей и откуда за службу или за деньги, а в
голодную пору и бесплатно они распределялись среди части жителей.
2.ЛЮБЕК