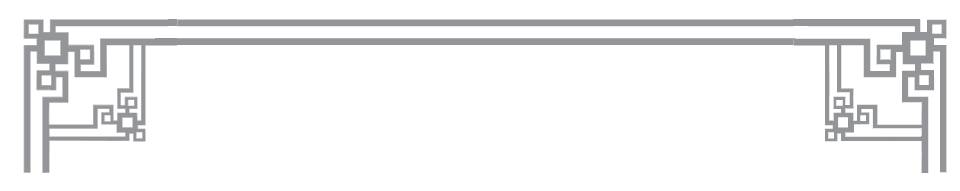
ГЛАВА ΙΙ
ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЭПИСТОЛЯРНОГО ТЕКСТА В ДИСКУРСЕ Ф. И. ШАЛЯПИНА
Глава содержит комплексный функционально-прагматический и лингвостилистический
анализ ЭД Ф. И. Шаляпина. Большое внимание уделяется изучению
экстралингвистических факторов текстообразования, играющих исключительную роль в
процессе эпистолярной коммуникации. Исследование осуществляется в рамках
коммуникативной стилистики текста и направлено на выявление соответствия
рассматриваемых писем эпистолярным коммуникативным универсалиям на
структурно-семантическом, жанрово-типологическом и стилистическом уровнях с
целью формирования общего представления об особенностях идиостиля творческой
личности, принадлежащей элитарному типу носителей языка.
2.1. Черты личности Ф. И. Шаляпина.
Творческие принципы новаторской деятельности
в области оперного искусства
Жизнь выдающегося русского оперного певца Федора Ивановича Шаляпина
(1873-1938) уже давно стала легендой. Это отмечают в своих воспоминаниях
родные и друзья великого актера [И. Ф. Шаляпина,
А. М. Горький, С. В. Рахманинов, К. А. Коровин, В. А. Серов], его современники
[В. В. Стасов, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко,
Н. А. Римский-Корсаков, В. А. Теляковский, Л. В. Собинов, И. А. Бунин,
В. А. Гиляровский и др.], исследователи биографии и творчества Е. А.
Грошева, В. Дмитриевский, Л. В. Никулин, М. Янковский и др. Громкая слава
обрушилась на «чудо-артиста» (С. В. Рахманинов) в юном возрасте,
сопровождала до конца дней и пережила его смерть.
Многогранность дарования,
неисчерпаемость таланта, огромная трудоспособность и полная самоотдача
творческому процессу снискали великому художнику сцены международный
авторитет. Так, известный итальянский тенор начала ХХ века Анджело Мазини в
послании, адресованном редакции газеты «Новое время», отмечает: «Пишу вам
под свежим впечатлением спектакля с участием вашего Шаляпина. Он выступил в
опере «Мефистофель». Публика театра
Scala
особенно взыскательна к молодым и неизвестным ей певцам. Но этот вечер был
настоящим триумфом для русского артиста, вызвавшего громадный
энтузиазм слушателей и бурные овации» [цит. по: Шаляпин 1960, т. 2,
с. 41]2.
В истории отечественной культуры имя Шаляпина - предмет особой национальной
гордости и славы, знак глубочайшей признательности
и любви народа: «Каждая пластинка, напетая Шаляпиным, доставляет
слушателям большое эстетическое наслаждение, каждая строка, написанная о
нем, прочитывается сотнями жадных глаз» [Грошева
1960, с. 5], в творчестве Шаляпина нашли
воплощение «лучшие достижения трагической музы русской сцены» [там
же, с. 10]. Известный критик и историк искусства В. В. Стасов в своей статье
о Шаляпине «Радость безмерная» пишет: «Шаляпин представляет художественную
натуру, по преимуществу - национальную.
В этом он подобен наивысшим русским поэтам и писателям» [т. 2, с. 10],
«ничего придуманного, ничего театрального, ничего повторяющего
сценическую рутину. Какой великий талант! Какое разнообразие таланта. Какая
необычайность создания диаметрально противоположных человеческих фигур!»
[там же, с. 9].
В своих
воспоминаниях об отце И. Шаляпина отмечает, что пришедшие в театр «всегда
слушали его как завороженные» [т. 1, с. 601], «публика то плакала
неподдельными слезами, то искренно смеялась»
[т. 1, с. 600]. Очень метко, в ироничной
форме о своем творческом успехе высказался однажды сам Шаляпин:
«В искусстве нет места скуке. А оперу
часто слушают и скучают. Жуют конфеты в ложе, разговаривают. Небось, когда
я пою, перестают конфеты жрать, слушают меня» [т. 2, с. 244].
Если все без исключения современники и потомки признают гениальность Шаляпина и считают его великим, оригинальным и непревзойденным
певцом мировой театральной сцены, то в вопросе оценки
2 Далее ссылки на это издание будут приводиться с указанием только тома и страницы.
его личности,
стиля поведения, отношения к жизни и в целом мировоззренческих установок
встречаются довольно разноречивые мнения. В этом, на наш взгляд, проявляется типично национальный склад
характера Шаляпина, о чем хорошо
сказал М. Горький: «Ф. Шаляпин - лицо символическое; это удивительно
целостный образ демократической России, это человечище, воплотивший в себе
все хорошее и талантливое нашего народа,
а также многое дурное его. Такие люди,
каков он, являются для того, чтобы
напомнить всем нам: вот как силен,
красив, талантлив русский народ!.. Федор
Иванович Шаляпин всегда будет тем, что он есть: ослепительно ярким и
радостным криком на весь мир: вот она - Русь, вот каков ее народ -
дорогу ему, свободу ему!» [письмо Н. Е.
Буренину, 1911 г., Капри: т. 1, с. 374]. О своих национальных корнях
не раз писал и сам певец: «Я - человек загнанной, замученной
страны, страны, которая, несмотря на трудную жизнь свою, создала
великое искусство, нужное всему миру, понимаемое всеми людьми
земли!.. много горечи в этой любви»
[т. 1, с. 187]. Даже
увлечения у Шаляпина были исключительно национальные: бильярд,
рыбалка, охота, а любимое блюдо - русские пельмени.
Во многом причины появления неоднозначных суждений о Шаляпине
можно объяснить, внимательно изучив основные вехи жизненного пути певца,
позволяющие представить образ его личности во всем многообразии черт и
проявлений.
Федор Шаляпин
родился в Казани в семье крестьянина3. Безрадостная пора детства на всю жизнь оставила в его душе тягостные воспоминания,
способствовавшие впоследствии формированию определенных психологических установок в сознании уже взрослого человека.
Об одной из них упоминает в своих
мемуарах дочь певца: «Отец всегда
боялся бедности - слишком много видел он
нищеты и горя в свои детские и юношеские годы» [т. 1, с. 561].
Однако в «бурлацкой натуре» [т. 1, с. 227] Шаляпина зрел, обретая позитивные и прогрессивные формы,
протест против «гнусности и пошлости» окружающей его Суконной слободы
(местечка, где проживали Шаляпины).
Во-первых, это проявлялось во все нарастающем и сопровождающем
певца на протяжении всей жизни интересе к чтению, в тяге к овладению новым
знанием: «Чем больше видел я талантливых людей, тем более убеждался, как
ничтожно все то, что я знаю, как много
3 Факты биографии Ф. И. Шаляпина приводятся с опорой на автобиографический материал, а также сайты: http://greatrussianpeople.ru; http://www.rulex.ru; http://www.wikipe-dia.
нужно мне учиться»
[т. 1, с. 121]. Дочь Шаляпина отмечает в своих воспоминаниях:
«Не изучая никогда математики, он, как любознательный
человек, интересовался всем, что в какой-либо мере было ему доступно»
[т. 1, с. 543], «никогда и никому он слепо не подражал, но учился
у всех, у кого мог научиться чему-либо
необходимому ему как художнику»
[т. 1, с. 537]. По словам В. Стасова, «ни в какой школе он не был, ни
в каких классах не сидел, не учился никаким предрассудкам; всем лучшим был
обязан самому себе, сам себя воспитал и вырастил» [т. 2,
с. 14]. В автобиографии «Страницы моей жизни» певец напишет о том,
что он учился у самой жизни,
которая «всюду открывала мне свои маленькие тайны, поучая
меня любить и понимать живое» [т. 1, с. 35].
Благодаря самовоспитанию Шаляпин смог
подняться впоследствии на вершину мировой славы: «Велик и трогателен
был этот вятский мужик, «слепород», варвар, перед гением которого ученически склонило
чело свое самое древнее и
заслуженное из артистических святилищ европейской культуры» (А. В.
Амфитеатров о покорении Шаляпиным итальянского театра Ла Скала) [т. 2, с.
59)]; «Шаляпин - это нечто огромное, изумительное и - русское. Безоружный,
малограмотный сапожник и токарь, он сквозь терния всяких унижений взошел на
вершину горы, весь окурен славой и - остался простецким, душевным
парнем. Это - великолепно! Славная
фигура!» [М. Горький - К. П. Пятницкому, письмо от 13 сентября 1901
г.: т. 1. с. 368].
Во-вторых, суровое детство повлияло на зарождение в юном Шаляпине
огромной любви к музыке, пению: оно стало «тем серым фоном, на котором
чрезвычайно отчетливо проступала радуга красок, которыми для мальчика была
расцвечена сначала игра уличных артистов, пение простым людом своих
протяжных песен, потом - первые
самостоятельные шаги на театральном поприще» [Дмитриевский 1973, с. 18]. В
автобиографической прозе «Маска и душа» Шаляпин так объяснил
причину увлечения искусством: «Почему театр не только приковал к себе
мое внимание, но заполнил целиком все мое существо?
Объяснение этому простое. Действительность, меня окружавшая, заключала
в себе очень мало положительного… Мое первое посещение театра…
подтвердило смутное предчувствие, что жизнь может быть
иною - более прекрасной, более
благородной» [т. 1, с. 215].
В 12 лет Шаляпин впервые попал в театр как зритель. Об этих впечатлениях
и вообще о своем отношении к театру он рассказал впоследствии в
автобиографической прозе: «Театр свел меня с ума, сделал почти
невменяемым»
[т. 1, с. 51], «уже
в антракте заметил, что у меня
текут изо рта слюни», «театр стал для меня необходимостью». «Все
это произвело на меня чарующее впечатление, незабвенное во веки веков»
[т. 1,
с. 53], почувствовал в музыке «нечто удивительно родное,
знакомое мне. Мне показалось, что вся моя
запутанная, нелегкая жизнь шла именно под эту музыку. Она всегда
сопровождала меня, живет во мне, в душе
моей и более того - она всюду в мире, знакомом мне.
Музыка - голос души мира, ее безглагольная песнь»
[т. 1, с. 109], «Трудна
моя жизнь, но хороша! Минуты великого
счастья переживал я благодаря искусству, страстно любимому мной. Любовь -
это всегда счастье, что бы мы не
любили, но любовь к искусству - величайшее счастье нашей жизни!» [т. 1, с.
171], «… мне, которому театр, быть может, дороже всего в жизни» [т.
1, с. 282], «Я проделал все, что в театре можно делать.
Я и лампы чистил, и на колосники лазил, и декорации приколачивал
гвоздями, и в апофеозах зажигал бенгальские огни, и плясал в малороссийской
труппе, и водевили разыгрывал, и Бориса Годунова пел. Самый маленький
провинциальный актер, фокусник какой-нибудь
в цирке близок моей душе. Так люблю я
театр» [т. 1, с. 283].
В начатой в 1890 году артистической карьере Шаляпина было все:
от первых неудач и малозначительных ролей на сцене небольших балаганных
театров - до исполнения оперных партий в качестве ведущего солиста
Московской частной оперы С. Мамонтова, Мариинского и Большого Императорских
театров, триумфально выступающего на
гастролях в Милане (1901), Риме (1904), Монте-Карло (1905), Берлине (1907),
Нью-Йорке (1908), Париже (1908), участвующего в заграничных
«Русских сезонах» 1907-1913 годов. В 1918 году Шаляпин был удостоен
звания народного артиста республики.
Бурно меняющаяся
политическая жизнь России 1900-1920-х годов оставила глубокий след в
биографии Шаляпина: не найдя «точек соприкосновения» между своим
мировоззрением и идеологией новой власти, в 1922 году певец принимает
решение не возвращаться в Россию из
зарубежных гастролей. В задачи нашего исследования не входит
выяснение того, добровольный или вынужденный был этот шаг,
однако в том, что он породил великую
драму и в душе, и в жизни актера, сомневаться не приходится. Жизнь
вдали от родины, лишение в 1928 году звания народного артиста4,
запрет на въезд в СССР и смерть на
чужбине5, - все эти жизненные обстоятельства послужили
4
Данное постановление отменено Советом Министров РСФСР 10 июня 1991 года
«как необоснованное».
5
В 1984 году прах Шаляпина перенесен на
Новодевичье кладбище в Москве.
основанием для
ожесточения травли, которую певец начал ощущать еще задолго до своей
эмиграции, и возникновения непонимания даже со стороны близких ему друзей.
Например, директор Императорского театра В. Теляковский, долгое время тесно общавшийся с Шаляпиным,
сделал такой вывод: «Не выдержав выпавшей на его долю славы и не вынеся
сказочных соблазнов, открывшихся перед ним, гениальный художник со временем
окончательно уступил место общепризнанному
гастролеру с тяжелой всемирной славой» [т. 2, с. 202].
Еще в начале 1900-х годов очень категорично оценивал отдельные
черты характера и поведения своего «закадычного друга» М. Горький:
«Шаляпин -
растолстел и очень много говорит о себе. Признак - дурной, это нужно
предоставить другим. Славная он душа все же, хотя
успехи его портят» [М. Горький - Е. П. Пешковой от 15/16 июля 1904 г.:
т. 1, с. 371]. «Здесь Шаляпин.
Поет. Ему рукоплещут, он толстеет и много говорит о деньгах - признак
дрянной» [М. Горький - Е. П. Пешковой
от 14 ноября 1904 г. из Петербурга: т. 1, с. 372]. Эмиграцию Шаляпина
Горький не понял и не принял. Отдельные документы свидетельствуют о том, что
восторженное преклонение перед гением
великого русского певца осталось в душе великого русского писателя, однако
личное общение по инициативе последнего было прекращено.
В советское время
публикуемая информация о Шаляпине была сильно идеологизирована. Образ певца
выглядел односторонне, сопровождался стандартно сформулированным «ярлыком».
«Выходец из народных низов, он повинен в
том, что развлекал своим искусством алчных и надменных богачей,
ненавидящих его родину и советский народ. Он сам повинен в том, что
семнадцать лет жизни прожил на чужбине и
умер, не увидев родной земли. Воздавая Шаляпину должное, почитая
заслуги его в великом русском искусстве, его необыкновенное дарование, люди
Советской страны не забудут и тяжкую вину гениального артиста перед его
родиной и народом», - пишет в своей книге Л. В. Никулин [Никулин 1954, с.
190].
Отрадой в непростое для певца время оставались дети и
любимая работа. С 1930 года всемирно известный бас выступает в труппе «Русская
опера». Живет преимущественно в Париже. В 1935-1936 гг. Шаляпин
гастролирует на Дальнем Востоке, Манчжурии, Китае и Японии, дает за этот
последний свой театральный сезон в общей сложности 57 концертов.
Работоспособность у Шаляпина была колоссальной,
многие знавшие его люди характеризуют певца как «творчески неутомимую
натуру»: например, за сезон 1918/1919 гг. он сыграл 78 спектаклей [т. 2, с.
319]. К творчеству Шаляпин относился не только как
к форме проявления человеком своих
способностей, таланта, но, в первую очередь, - как к работе, пусть и
любимой, но не терпящей отсутствия дисциплины, самоотдачи,
профессионализма: искусство -не «забава, помогающая разогнать скуку, заполнить свободное время»
[т. 1, с. 187]; «Человек -
творец всякого дела, но дело - ценнее человека,
и он должен поступаться своим самолюбием,
должен в интересах дела!»
[т. 1, с. 165]; «Я вообще не верю
в одну спасительную силу таланта, без упорной работы» [т.
1, с. 253].
Воспоминания и письма дочери Ирины, друзей, коллег, знакомых,
многочисленные статьи о Шаляпине, другие документальные материалы
воссоздают образ противоречивого, «анархического существа» (М. Горький),
«гордой и независимой натуры» с ярко выраженным «чувством победителя» в
отношении жизни (И. Шаляпина).
Портретная
характеристика Шаляпина передает великолепные
артистические внешние данные:
выразительные глаза, «чисто русское лицо» (Л. Андреев), «высокий,
статный, мужественный» (И. Шаляпина),
«большущий, неуклюжий, с грубым умным лицом. В каждом суждении
его чувствуется артист» [М. Горький - А. П. Чехову: т. 1, с. 368].
Отдельно следует сказать об уникальном
голосе певца: «Это был почти нечеловеческий голос. Вы не слышали перерывов для дыхания, ударений.
Это был «райский напев». Какая-то чудная гармония «не здешней
стороны» (В. Дорошевич) [т. 2, с. 50]; «Шаляпин довел технику голоса
до последней степени виртуозности» (Э. Старк) [т. 2, с. 119]; «Что бы
ни пел Ф. И., он всегда рисовал картину не только словами, но и голосом,
его тембровыми оттенками, как художник красками» [т. 1, с. 536-537], «он
умел голосом передать стиль, настроение, тончайшие
оттенки и словно рисовал звуками» (И.
Шаляпина) [т. 1, с. 600].
Характер у Шаляпина, судя по источникам, был непростым, а, следовательно,
вызывающим неоднозначную оценку окружающих: «Он -натура
капризная и еще более непоседливая, чем я» [М. Горький -И. И. Бродскому от 1 ноября 1910 г.: т. 1, с. 372], «капризничающий барин»
(В. Рождественский), «очень самолюбив» (И. Шаляпина).
На все в жизни,
по собственному признанию, певец смотрел
«не как политик или философ, а как актер»
[т. 1, с. 221], как «свободный
и независимый человек» [т. 1, с. 121]. Поэтому вполне
объяснимо присутствие в нем таких черт, как «врожденная артистичность»
«удивительная наблюдательность, умение подметить характерные черты, привычки
людей» (И. Шаляпина) [т. 1, с. 599], «необыкновенная интуиция, которая помогала
ему… глубоко проникать в образ» [там же], самобытная фантазия,
наблюдательность, память, внимание к мелочам, чувство ритма и пластики,
беспредельный темперамент: «Я старался
и в жизни, и на сцене быть выразительным, пластичным»
[т. 1, с. 130].
В
автобиографической прозе Шаляпин характеризовал себя как
«человека веселого и общительного»
[т. 1, с. 87], но вместе с
тем прямолинейного, непосредственного и предельно искреннего: «Все-таки
я думаю, что обо мне судили бы
лучше, будь я более политичен, тактичен,
дипломатичен, или, проще говоря, более лжив. Но я - плохо воспитан и
не люблю двоедушия, не терплю лжи» [т. 1, с. 166]. Основным
своим недостатком певец считал
горячность, вспыльчивость: «Я охотно
принимаю упрек в несдержанности - он мной заслужен. Я сознаю, что у
меня вспыльчивый характер и что выражение недовольства
у меня бывает резкое»
[т. 1, с. 302]; «Работа артиста -
работа нервная; я воспитывался не в салонах, и хотя знаю, как не надо вести
себя, но не всегда помню
это. По природе моей я не сдержан, иногда бываю резок, и всегда
нахожу нужным говорить правду в глаза. К тому же я впечатлителен, обстановка
действует на меня очень сильно, с
«джентльменами» я тоже могу быть «джентльменом», но среди хулганов
- извините - сам становлюсь хулиганом. Как аукнется, так
и откликнется»
[т. 1, с. 161]; «Без курьезных
случайностей жизнь моя никогда не обходилась»
[т. 1,
с. 187]; «Все это бывало: били меня, и я бил.
Очевидно, на Руси не проживешь без
драки» [т. 1, с. 190].
Больше всего в
людях Шаляпин ценил профессионализм и ответственное
отношение к делу, был бесконечно требователен к себе и другим. Сравнивая в
этом плане русских и европейцев, отмечал с грустью: «Мы, русские, у себя
дома к такого рода любовному отношению к делу и пониманию важности его - не
привыкли» [т. 1, с. 191]. Именно безответственное отношение к делу коллег становилось в большинстве случаев
причиной в свое время известных и породивших много слухов «скандалов»
Шаляпина. Как вспоминает В. Теляковский, «скандалы»
происходили по большей части не на
личной почве, а на почве художественной, и всегда имели своим положительным
результатом то обстоятельство, что при ликвидации их приходилось
попутно вскрывать и излечивать язвы нашего театрального механизма» [т. 2, с.
219]. Сам Шаляпин так рассуждал: «Хорошо быть скульптором, композитором,
живописцем, писателем!
Сцена этих людей - кабинет. Мастерская, они - одни, дверь к ним закрыта, их
никто не видит, им не мешают воплощать волнения их душ так, как они хотят. А
попробуйте-ка воплотить свою мечту в живой образ на сцене, в присутствии трехсот
человек, из
которых десять тянут во все стороны от твоей задачи,
а остальные, пребывая равнодушными, как покойники, ко всему на свете,
- вовсе никуда не тянут!»
[т. 1, с. 165]. Возможно, сказывалось также
постоянное стремление Шаляпина к идеалу: «Но невыносимо тяжело бывает мне
порою, господа! Уж очень несоизмеримо противоречие между
тем, чего хочется, с тем, что есть»
[т. 1, с. 176].
А, быть может, -максимализм в проявлении чувств: «Молчать, так молчать,
писать, так писать» (комментарий относительно особенностей собственного
эпистолярного поведения) [т. 1, с. 357]; «недовольство свое выражал
нередко очень бурно, доходя до резкости», «характер отца был таким,
какой свойственен натурам с
обостренной нервной системой. Одно настроение
быстро сменялось другим. Он был подозрителен и доверчив, бесконечно добр и
страшно вспыльчив» (И. Шаляпина) [т. 1, с. 537].
Воздействие Шаляпина на людей, сила его личности были огромны: «Этот
человек как бы обнял меня душой своей. Редко кто в жизни
наполнял меня
таким счастьем и так щедро, как он» (В. Стасов) [т. 1, с. 136]; «Я за это
время был поглощен Шаляпиным» [т. 1, с. 368];
«Я пойду его слушать, если даже он целый
вечер будет петь только одно «Господи, помилуй!» (М. Горький) [т. 1,
с. 369]. и не сводим лишь к исполнительскому
искусству: в период после Октябрьской революции он руководил художественной
частью Мариинского театра, занимался режиссурой оперных спектаклей,
снимался в кино, был художником и скульптором. Однако главным в жизни,
своим призванием всегда считал
театральные подмостки: «Если я в жизни
был чем-нибудь, так только актером и
певцом. Моему призванию я был предан безраздельно»
[т. 1,
с. 17], «Я - театральный человек, слишком любил свое дело»
[т. 1, с. 109].
Исполнительский
репертуар певца разнообразен. Активно Шаляпин выступает на концертах как
камерный певец, исполняя русские народные песни и романсы (в числе особо
любимых - произведения Глинки и
Даргомыжского). Его театральный «послужной список» чрезвычайно
обширен и включает свыше 60 спетых партий [т. 2, с. 496-503]. Из
наиболее значительных трагедийных образов выделяются: Мефистофель
(«Фауст» Гуно), Мефистофель («Мефистофель» Бойто), Демон («Демон»
Рубинштейна), Иван Грозный («Псковитянка» Римского-Корсакова),
Борис («Борис Годунов» Мусоргского), Алеко («Алеко» Рахманинова),
Дон-Кихот («Дон-Кихот» Масснэ), Руслан («Руслан и Людмила»
Глинки), Сусанин («Жизнь за царя» Глинки), Досифей («Хованщина»
Мусоргского), Варяжский гость («Садко» Римского-Корсакова), Олоферн («Юдифь»
Серова), Сальери («Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова). Общая черта этих
образов состоит в том, что «при всем внешнем величии и мощи» во внутреннем
мире царят «глубокое, устрашающее одиночество, надломленность, трагическая
раздвоенность души, совести, чувств»
[Грошева 1960, с. 10]. В ряду комических образов наиболее любимы
исполнителем были роли Фарла-фа («Руслан и Людмила» Глинки) и Дона-Базилио
(«Севильский цирюльник» Россини).
В процессе работы
над образом Шаляпин стремился приблизиться к исторической правде,
всесторонне изучая «контекст» - эпоху, породившую
этот образ, обращаясь за помощью к историкам и знакомым
художникам, писателям. В результате
кропотливой «добросовестной отделки» [т. 1, с. 127] Шаляпин добивался
удивительного постижения каждого
создаваемого образа на сцене, где «правда чувств» была выражена
«в высочайшей по богатству и тонкости мастерства художественной форме»
[Грошева 1960, с. 12]. Главным в творческом методе певца являлось
создание «образа-характера во всей полноте своего жизненного содержания, во всей правде своего внутреннего и внешнего облика»,
«пристальное внимание к духовной жизни человека», «психологический
анализ», разгадывание «тайников человеческой души», «философское обобщение и
реалистическая многогранность жизненных черт» [Грошева 1960, с. 10-11].
Подобный подход
был поистине новаторским в условиях современного Шаляпину национального
искусства, в котором давно встал вопрос «обновления» подхода к
оперному пению: «Я чувствовал инстинктивное
отвращение к оперному шаблону»
[т. 1, с. 238]; «Я работал с
энтузиазмом, как губка, впитывал в себя лучшие веяния времени,
которое во всех областях искусства
было отмечено борьбою за обновление духа и формы творений»
[т. 1, с. 247-248]; «Я понял, что не нужно
копировать предметы и усердно их
раскрашивать, чтобы они казались возможно более эффектными, - это не искусство. … во всяком искусстве важнее
всего чувство и дух - тот глагол, которым пророку было
повелено жечь сердца людей. … этот глагол
может звучать и в краске, и в линии, и в жесте - как в речи» [т.
1, с. 246]. Причину упадка современного искусства вообще Шаляпин видел в
«крутом разрыве театральных традиций» [т. 1,
с. 276], в отсутствии «прежнего отношения актера к театру»
[т. 1, с. 280].
Целью своей
сценической деятельности певец считал создание
«гармонически устойчивого образа,
живущего своей собственной жизнью, - правда, через актера, но независимо от
него. Через актера творца, независимо от актера-человека»
[т. 1, с. 268]. Средством достижения поставленной цели стал
способ абсолютного перевоплощения актера в человека (!), образ которого
необходимо было воплотить на сцене. Этот поистине чудесный процесс
шаляпинского перевоплощения по праву назван К. Коровиным «тайной его души,
его гения» [т. 2, с. 233]. В арсенале
актера было все для достижения максимального эффекта перевоплощения:
тончайший музыкальный слух, удивительный
силы голос, глубокое чувство слова, мастерское владение интонацией,
пластика, артистизм.
В контексте
такого представления о цели творческого процесса Шаляпин новаторски подошел
к пониманию самой сути оперного искусства, став создателем нового,
синкретичного, его вида - вокально-драматического,
позволившего соединить в исполнительском мастерстве свойства и лучшие проявления оперной музыки и психологической
драмы.
Шаляпин обозначил свой вид искусства как «опера-драма», а самого его
называли «артистом-певцом», «певцом-актером», «актером-музыкантом».
Если до Шаляпина оперные певцы старались как можно
«правильнее
тянуть звук»,
то Шаляпин своим исполнением помогал аудитории «понимать смысл
произносимых слов, чувств, вызвавших к жизни именно эти слова» [т. 1, с.
133], считая, что «артист в опере должен не только петь, но и играть
роль, как играют в драме» [т. 1, с. 135].
К. Станиславский по этому поводу высказался так: «Оперный певец
имеет дело не с одним, а сразу с тремя искусствами, т. е. с вокальным,
музыкальным и сценическим. Шаляпин являет собой изумительный пример
того, как можно слить в себе все три искусства на сцене» [т. 2, с. 128]. Сам
Шаляпин признавался в особой ценности для него
оперы по той причине, что она «может
сочетать в стройной гармонии
все искусства - музыку, поэзию,
живопись, скульптуру и архитектуру» [т. 1, с. 278], «театр
именно и есть кафедра для человеческой души» [т. 2, с. 198]. Современные
театральные деятели и критики пишут о
том, что дело великого реформатора национального оперного искусства
живет и вклад его в сокровищницу мирового сценического мастерства огромен.
В человеческом
отношении Ф. И. Шаляпин, судя по биографическим источникам, был сложной и
противоречивой натурой. Однако какие бы чувства у людей не вызывал оперный певец
как личность, остается бесспорным тот факт, что его имя навсегда вошло в сокровищницу
национального искусства. Человек этот «символически русский и в дурном,
и в хорошем, а хорошего в нем всегда больше, чем
дурного» [М. Горький - А. В. Амфитеатрову,
1911 г., Капри: т. 1, с. 372]. М.
Горький в письме к Н. Е. Буренину в 1911 году, характеризуя вклад Шаляпина в
развитие русского театрального искусства, заметил: «Федор Иванович Шаляпин,
артист-самородок, человек гениальный, оказавший русскому искусству
незабываемые услуги, наметив в нем новые
пути… заставил Европу думать, что русский народ, русский мужик совсем не
тот дикарь, о котором европейцам рассказывали холопы русского правительства»
[т. 1, с. 373].
Неординарность и
талант русского оперного певца находили на протяжении его жизни разные формы
проявления (например, он великолепно
рисовал, создавал себе сам сценический имидж), включая умение
использовать жанровый потенциал письма как типа текста в решении задач
межличностной коммуникации.